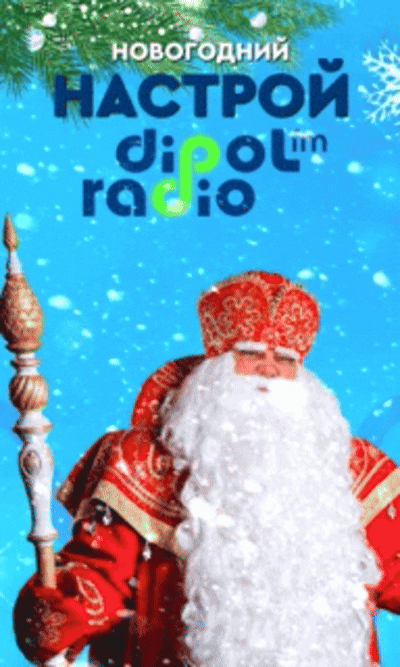В музее изобразительных искусств открылась юбилейная выставка 60-летнего художника Бориса Паромова.
В музее изобразительных искусств открылась юбилейная выставка 60-летнего художника Бориса Паромова. К сожалению, автор в день вернисажа оказался в больнице, зато собравшихся пришел поприветствовать директор музейного комплекса Павел Головин…
В музее представлено 170 работ художника — картины развешаны в четырех залах и даже в коридоре, их соединяющем.
Искусствовед Наталья Паромова определяет творчество супруга как русский космизм. И любой, заглянувший на выставку, согласится, ведь в космосе Бориса Паромова парит все: яблоки, богатыри, ангелы, бестелесная голова автора.
В 1970-е Паромов начинал как участник «молодежного движения» в искусстве, неформального течения, отвергавшего условности соцреализма.
Уже тогда, судя по картинам, художник определился с манерой письма: либо гладкий, ровный цвет — работа кисти неразличима, либо позаимствованные у пуантилистов коротенькие прямоугольные мазки, создающие цветовые переливы. Для Бориса Ивановича главные творческие открытия происходят в сфере идей, а не в плоскости формы.
В молодости его герои — вполне земные люди. Молодые, влюбленные и даже обнаженные девы, зеленые, купающиеся в солнце творческие дачи или лесные пейзажи, лирический герой, альтер эго автора, прибывающий в светлый город Ленинград или Достоевский на фоне мрачного города Петербурга.
Даже философские размышления воплощаются во вполне привычных советскому человеку образах. Диптих «Труд и отдых» (1975) изображает работягу, который ничуть не изменив позы и выражения лица кочует из декораций завода за столик во дворе, где городские мужики играют в домино. Графический триптих «Возмездие» (1975) в духе мрачной карикатуры рисует фашистов ордой выродков, несущих распятой на кресте голую женщину. Неподалеку распятая дева с мишенью на лоне встретится уже в живописном варианте и с подписью «Россия», чтоб не оставалось сомнений.
Политическая либерализация совпала с появлением христианских образов в творчестве Бориса Паромова. Большой пласт его творчества с 1990-х до наших дней посвящен воспроизводству христианского мифа в православном каноне. Большеглазые спасители и богоматери, ангелы и святые смотрят на нас с картин, обрамленных как иконы, как складни, развешанных в порядке, напоминающем о церковных иконостасах.
Но это религиозная философия нового века, в которую включено предчувствие космоса, богоискательство в масштабах Вселенной, поэтому христианские святые, как и многие герои Паромова плывут в открытом космосе, среди звезд и планет.
Паромов родился в Ханты-Мансийске, рассказала на открытии выставки Наталья Александровна, и всегда ощущал, что этот город ближе к Луне, чем к любому другому человеческому поселению. По этой версии Паромов с детства ощущал себя «лунатиком», а отсюда недалеко и до человека космоса, человека вселенной.
Наверное, поэтому славянская языческая мифология интересует автора не меньше, чем христианство. Бог Перун или Род — не противопоставляются Христу, а сосуществуют с ним, передают ему эстафету славянской духовности.
Паромов — неординарный для Тюмени автор. У нас есть художники-реалисты, художники-абстракционисты, есть те, в чьих произведениях читается близость автора к декораторской, дизайнерской профессиям. Но живописцев столь откровенно, без обиняков, без намеков, говорящих об интимном — о духовности, о Боге, о судьбе России — припомнить не могу. Разве что наивного художника Владимира Чугунова, которого встретила на паромовском вернисаже. Эстетика и пафос его антивоенной картины «Ради Христа, остановитесь!» в чем-то созвучны аллегориям Бориса Паромова: распятой России с мишенью на животе, противопоставлению Христа и золотого тельца американской статуи Свободы…
Художественный мир Бориса Паромова наполнен мистикой, богоискательством, размышлениями о судьбе России, которым нет-нет, да и предается любой русский человек, пусть и у себя на кухне. Он сентиментален, патетичен, прямолинеен и прямодушен. Он похож на русского богатыря, перекрестясь едущего на бой с уродливым огнедышащим Змеищем, угрожающим православному храму. На казака, что ничтоже сумняшеся едет завоевывать Сибирь, потому что его дело правое, и за ним — вся Русь. На пионера, который, оставшись наедине с зимним таежным космосом, видит лик святого и верит в него разом, потому что не верить — страшно и одиноко.