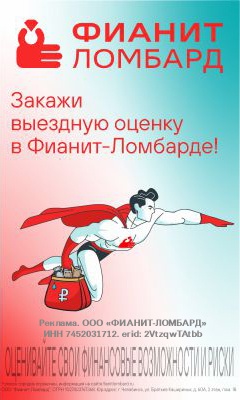Это сейчас «халява» означает нечто, доставшееся без особых усилий, а еще сто лет назад халявное дело требовало кропотливого труда и многих стараний. Обо всех особенностях этого непростого дела рассказывает выставка «Рожденное в огне», открывшаяся 14 декабря в филиале краеведческого музея «Городская Дума». Небольшая экспозиция представляет историю стеклянного ...
Это сейчас «халява» означает нечто, доставшееся без особых усилий, а еще сто лет назад халявное дело требовало кропотливого труда и многих стараний. Обо всех особенностях этого непростого дела рассказывает выставка «Рожденное в огне», открывшаяся 14 декабря в филиале краеведческого музея «Городская Дума». Небольшая экспозиция представляет историю стеклянного производства в Тобольской губернии. В XIX веке здесь действовали три завода, после отмены каторги попавшие в частные руки. Каторжане, работавшие на винокурнях, переквалифицировались в стеклодувов — иллюстрацией такого превращения стала первая витрина, где ржавые кандалы соседствуют с фигурным графином 1835 года, сделанным бывшим каторжанином Петром Науменко и попавшим в музей от его потомков. О продукции заводов братьев Злоказовых, инженера Ивана Меньшикова и поляка Альфонса Поклевского-Козелла можно судить по рекламным объявлениям и экспонатам «стеклянной лавки»: из зеленоватого прозрачного стекла делали крынки, бутыли разной величины, блюда, бесшовные бутылки для водки, пива и фруктовых вод, аптекарские пузырьки, листовое стекло — одинарное, двойное, цветное. Собственно, плоское оконное стекло и называли халявой. На выставке представлен весь процесс его создания: стеклодув набирал огнедышащую стеклянную массу при помощи специальной трубки и выдувал огромные сосуд. Горлышко и дно у сосуда отрезались, а получившийся цилиндр разрезали и, нагревая, выпрямляли. Стекольное дело — сродни кузнечному: темные люди, достающие из огня прекрасные вещи, всегда окутаны странными, порой мрачными историями. Так, известно, что хозяин Боровлянского завода в Курганском уезде Иван Меньшиков сам ездил в Германию, чтобы узнать стекольные секреты. Вернувшись, он построил печь, секрет которой никому не открывал. Ванная печь, заменившая устаревшую горшковую, пряталась за высокой стеной, а секрета всего производственного процесса целиком не знал никто, кроме самого инженера Меньшикова. Стенды выставки напоминают добротные иллюстрации классических трудов по этнографии и истории материальной культуры. Сплошной позитивизм, величайшее внимание к факту — вот потемневшие от времени стеклодувные трубки, вот технологический процесс изготовления бутылки, столь подробный, будто предназначенный вниманию будущих стеклодувов. Словом, Словцов был бы доволен. Беда в том, что «старые добрые времена» такого подхода давно остались в прошлом. Вряд ли обычный тюменец времен телевидения и Интернета, придя в музей с детьми, будет искать тонкости технологии. Это и не главное дело краеведческого музея, первостепенная цель которого — помочь человеку современному составить представление о человеке прошлом. Именно «человеческие» подробности жизни стекольных заводов стали самой привлекательной деталью вводной экскурсии, которую провела автор экспозиции Юлия Соловьева. Старожилы рассказывают, что на Боровлянском заводе останавливался в 1837 году цесаревич Александр Николаевич, но заночевать там побоялся — слишком страшны были заклейменные лица бывших каторжан. Владелец Ертарского стеклозавода Альфонс Поклевский-Козелл — «водочный король Урала и Сибири» конца XIX — начала XX вв. — любил свою кухарку и крапивный суп; механик Алексей Галкин, работавший на стекольном заводе во время войны, починил в 1953 году башенные часы здании городской Думы… И мы не узнаем, сколько подобных фактов не нашло отражения в молчаливом устройстве стендов. Гипотетические посетители, которые придут в музей завтра и послезавтра, скорее всего, будут лишены экскурсовода и уж точно не услышат обстоятельного комментария настоящего старого стеклодува, украсившего открытие выставки. Хотя такая «устная история» вполне могла быть записана на магнитофон и также включена в экспозицию. Исторический контекст, легенды и повседневность старинных сел Боровлянского и Тугулымского районов оказались скрыты за мутным стеклом индустрии. Живые люди на фотографиях — лихие стеклодувы в пиджаках и рубахах навыпуск, «юные баночники, направленные на отдых в награду за ударный труд» и прочие, такие даже как Алексей Григорьевич Галкин, о котором музейщикам известно много, — остались лишь мимолетными образами, которые выветрятся из памяти посетителя cразу же, едва он ступит на широкую лестницу «Городской Думы» и вдохнет холодного воздуха с реки Туры.